Едва ли еще чье-нибудь творчество оказало такое могучее влияние на развитие литературы и культуры разных стран и народов, как творчество Шекспира.
Едва ли найдется в мировой литературе писатель, о котором написано и сказано больше, чем о Шекспире.
Таков настоящий гений. Он неисчерпаем. Каждое поколение стремилось сказать о нем свое слово. Каждое поколение хотело понять его глубже, чем предыдущее. В этом стремлении наше поколение далеко не первое и далеко не последнее. Это познание будет продолжаться до тех пор, пока существует литература.
Из всего необозримого богатства, созданного Шекспиром, внимание больше всего всегда привлекал «Гамлет». В том, что было написано об этой трагедии, больше всего было сказано об ее главном герое. А все, что за четыреста лет было сказано о датском принце, так или иначе, рано или поздно сходилось и концентрировалось вокруг его знаменитого монолога.
Почему из всех монологов Гамлета (а их около 20) именно этот стал настолько знаменит, что явился центром приложения сил многих переводчиков Шекспира, их экзаменом на мастерство и превратился в своего рода “a must to know”, став достоянием даже тех, кто никогда не знал или не понимал Шекспира? Потому что, во-первых, этот монолог, как это бывает с лучшими оперными ариями, является абсолютно законченным и совершенным в своем роде маленьким произведением, написанным гениальною рукой и могущим существовать само по себе и восхищать проникших его бездонный смысл. Во-вторых, потому, — и это делает его действительно вершиной творчества Шекспира, шпилем, венчающим архитектурный ансамбль его трагедии, — что это монолог центральный и с точки зрения композиции, и с точки зрения сути образа, и, главное, с точки зрения смысла всей трагедии в целом. Это — квинтэссенция «Гамлета» как трагедии, Гамлета как образа, и, наконец, всего Шекспира как драматического гения.
Т. Левицкая. «О переводе определений со сдвинутым грамматическим значением»
Что такое этот монолог в немногих словах? Это вечная проблема борьбы добра со злом в ее преломлении в душе чуткой и возвышенной, тоскующей по утраченным идеалам, созданной любить, но вынужденной ненавидеть, раздвоенной и одинокой, мучимой непониманием и грубой беспощадностью текущей вкруг нее жизни. По словам Н. Россова, одного из первых критиков переводов «Гамлета», этот монолог — «внутреннее состояние мыслящей и сомневающейся (одно с другим почти не раздельно) части человечества».
Гамлеты и их проблемы существовали, видимо, во все времена, и поэтому неудивительно, что каждая новая эпоха, новое поколение по-своему читали шекспировского героя. Поэтому так различны, так непохожи при всем внешнем сходстве переводы «Гамлета» на русский язык. Центральный монолог, естественно, не является исключением. История переводов «Гамлета» в России — едва ли не самая богатая переводческая история зарубежных произведений. Введенный на русскую сцену еще в 1748 году в переделке А. Сумарокова «Гамлет» переводился более 30 раз, а центральный монолог трагедии, став пробным камнем мастерства, с бурным развитием русской переводческой школы, превзошел по количеству переводов как аналогичные фрагменты других классических произведений, так и самого «Гамлета» в целом.
[the_ad id=»4162″]
При всех превратностях, пережитых этой трагедией в России (я имею в виду беспощадные переделки XVIII и начала XIX веков), именно этому монологу удалось хоть и в самых разных вариантах, пройти без существенного искажения смысла почти через все переводы, переделки и адаптации. Даже Сумароков при всей псевдо-классической нелепости его «обработки» обошелся с этим монологом с несвойственной ему в отношении Шекспира осторожностью. С течением же времени, по мере того, как Шекспир в трудной борьбе со всяческими условностями завоевывал уважение и восхищение всех народов, стремление исказить оригинал перерастало в стремление сохранить его, а последнее — в благоговение перед каждой шекспировской строкой, которое подчас влекло за собой фанатический буквализм, вредивший самой литературной форме перевода.
История переводов монолога Гамлета
Мы рассмотрим здесь лишь наиболее значительные переводы монолога Гамлета, взятые как фрагменты из переводов всей трагедии в целом, в попытке проследить историю перевода этого монолога с начала XIX века вплоть до послереволюционных переводов, которые заслуживают отдельного анализа.
Вот основные вехи этой истории: М. Вронченко (1828 г.), Н. Полевой (1837 г.), А. Кронеберг (1844 г.), М. Загуляев (1861 г.), А. Соколовский (1883 г.), П. Гнедич (1891 г.), Д. Аверкиев (1895 г.), К. Р. (Романов) (1899 г.). Их мы и рассмотрим.
Вот написанный Шекспиром английский текст, который, как можно надеяться, без существенных неточностей служил оригиналом (W. Shakespeare. The Complete Works. Ld. and Gl., 1964) всем переводчикам:
To be, or not to be: that is the question:
Whether ’tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them? To die: to sleep;
No more; and by a sleep to say we end
The heart-ache and the thousand natural shocks
That flesh is heir to, ’tis a consummation
Devoutly to be wish’d. To die, to sleep;
To sleep: perchance to dream: ay, there’s the rub;
For in that sleep of death what dreams may come
When we have shuffled off this mortal coil,
Must give us pause: there’s the respect
That makes calamity of so long life;
For who would bear the whips and scorns of time,
The oppressor’s wrong, the proud man’s contumely,
The pangs of despised love, the law’s delay,
The insolence of office and the spurns
That patient merit of the unworthy takes,
When he himself might his quietus make
With a bare bodkin? who would fardels bear,
To grunt and sweat under a weary life,
But that the dread of something after death,
The undiscover’d country from whose bourn
No traveller returns, puzzles the will
And makes us rather bear those ills we have
Than fly to others that we know not of?
Thus conscience does make cowards of us all;
And thus the native hue of resolution
Is sicklied o’er with the pale cast of thought,
And enterprises of great pith and moment
With this regard their currents turn awry,
And lose the name of action.
Первым, кто задался целью воссоздать «Гамлета» на русском языке, «так, как написал бы его по-русски сам автор», был Михаил Павлович Вронченко, военный геодезист, генерал-майор и выдающийся переводчик. Он положил начало настоящим переводам с английского, став первым из тех, кто вдохновением и кропотливым трудом создавал русского Шекспира.
Ю.А. Сорокин. Проблема перевода с психолингвистической точки зрения
Перевод “Гамлета” М. Вронченко (1828 г.)
В 1828 г. он опубликовал перевод «Гамлета», который по точности и верности букве и духу оригинала в течение десятилетий оставался соперником лучших переводов трагедии. Это тем более поразительно, что его «Гамлет» появился всего 18 лет спустя после чудовищной переделки С. Висковатова, сделанной по французскому переводу; создан в то время, когда русская литература еще только- только’ просыпалась от летаргического сна классицизма с его условностями и канонами, с его враждебностью к вульгарному и «непросвещенному» Шекспиру.
Вот как выглядел монолог Гамлета в этом первом русском переводе трагедии:
Быть иль не быть — таков вопрос; что лучше,
Что благородней для души: сносить ли
Удары стрел враждующей фортуны
Или возстать противу моря бедствий
И их окончить? Умереть — уснуть —
Не боле; сном всегдашним прекратить
Все скорби сердца, тысячи мучений,
Наследье праха — вот конец достойный
Желаний жарких! Умереть — уснуть!
Уснуть? — Но сновиденья? — Вот препона:
Какие будут в смертном сне мечты,
Когда мятежную мы свергнем бренность,
О том помыслить должно. Вот источник
Столь долгой жизни бедствий и печалей!
И кто б снес бич и поношенье света,
Обиды гордых, притесненья сильных,
Законов слабость, знатных своевольство,
Осмеянной Любови муки, злое
Презренных душ презрение к заслугам Когда кинжала лишь один удар —
И он свободен? Кто в ярме ходил бы,
Стенал под игом жизни и томился,
Когда бы страх грядущего по смерти, —
Неведомой страны, из коей нет
Сюда возврата, — не тревожил воли,
Не заставлял скорей сносить зло жизни,
Чем убегать от ней к бедам безвестным?
Так робкими творит всегда нас совесть,
Так яркий в нас решимости румянец
Под тению тускнеет размышленья,
И замыслов отважные порывы,
От сей препоны уклоняя бег свой,
Имен деяний не стяжают…
Не правда ли, на первый взгляд, перевод этот прекрасен и почти не оставляет желать лучшего. Настолько целен, точен и архаично поэтичен этот монолог. Кажется, что это о нем сказаны слова Белинского, относящиеся к другому переводу М. Вронченко — к переводу «Макбета» (1837 г.): «Несмотря на видимую жесткость языка в иных местах, от этого перевода веет духом Шекспира, и когда вы читаете его, вас объемлют идеи и образы царя мировых поэтов». Правда, тот же Белинский писал позднее, что и бездарный перевод не убьет до конца произведения великого, которое вопреки нему и через него все равно захватит читателя или зрителя. Но в данном случае перевод служит не барьером, а языковым фильтром, переливающим английскую поэзию в русские стихи. Помимо всего прочего, этот перевод был первым!
Это не означает, что он свободен от недостатков. Но нужно отметить, что большинство из них лежит в области языка, формы, а не неправильного толкования оригинала, причем часть из них сегодня умножена временем.
Что мы видим при подробном анализе?
Конечно, с расцветом русской литературы и развитием русского языка этот перевод не мог долго оставаться вполне современным: такие слова и выражения, как «враждующая фортуна», «противу», «препона», «любови муки», «под тению», «сей», «деяния» очень скоро, буквально в течение десяти лет, сделали его архаичным. Но общая верность духу и некоторые особенно счастливо найденные выражения долго оставались объектом подражания.
Везде ли перевод безусловно верен? Разумеется, нет. Это была бы слишком непосильная задача для первого перевода такого (!) произведения. «Вот конец достойный желаний жарких» — это перевод желаемого, а не действительного. У Шекспира нет этих слов. Стоящие в английском тексте слова означают, что смерть, вечный сон, который окончит страданья души и тела — это желанный конец, исход, успокоение. Вронченковский же Гамлет как бы иронизирует над смертью, говоря, что она — достойный конец желаний жарких, и таким образом совершенно искажается его мысль о смерти. Правда, эту же фразу Вронченко можно прочесть и по-другому: «конец, достойный желаний жарких», то есть «конец, достойный того, чтобы его хотеть». Такая интерпретация возвращает словам Гамлета смысл оригинала, но тогда очевидно, что выражение Вронченко неудачно. В любом, даже в лучшем случае, оно двусмысленно.
Затем, не совсем верно толкуется слово “dreams”. Гамлет говорит о сновиденьях смертного сна, а не о мечтах. «Мятежная бренность» — сочинение переводчика. “Mortal coil” —смертная оболочка, тело, о которых так часто говорит Гамлет, противопоставляя их духу, душе. Смысл этих слов: «когда мы избавимся от телесной, смертной оболочки духа, освободив его». Мятеж здесь совершенно ни при чем, и как всякое излишество, нарушает целостность картины.
Далее. ‘‘The law’s delay” — это, конечно, не «слабость законов», а по удачному выражению одного из поздних переводчиков, — «медлительность законов». Словам “he himself might his quietus make with a bare bodkin” не вполне соответствует перевод «кинжала лишь один удар — и он свободен». Речь идет не о свободе, а об успокоении, избавлении от «скорби сердца», «тысячи мучений», от «долгой жизни бедствий и печалей».
В строках «Когда бы страх … неведомой страны, из коей нет сюда возврата» пропущен образ путника, столь яркий для того времени пилигримов и путешественников.
“Puzzles the will.” Это особенно важные слова. Они заключают и разряжают весь этот длинный и напряженный смысловой период, начавшийся со слов “Who would bear…”, означая, что именно в страх «грядущего по смерти» упирается воля человека, увидевшего спасительный выход в смерти. Страх сковывает волю, а не «тревожит» ее; в этом весь смысл трагических сомнений Гамлета; соответствующее слово перевода должно быть также сильно и кульминационно — с него начинается новый период, как волна откатывающийся от этой преграды смущенной страхом воли; ниже Гамлет развертывает эту мысль. Недостаточно точно передан и смысл слов «… не заставлял скорей сносить те беды, которые мы имеем, чем бежать к другим, еще неизвестным». У Вронченко: «не заставлял скорей сносить зло жизни, чем убежать от ней (sic!) к бедам безвестным». Это нюанс, но и он представляется важным в таком монологе.
На этом, пожалуй, кончаются неточности в передаче смысла. Может возникнуть сомнение относительно верности перевода слова “conscience” как «совесть», но такого рода требования мы не считаем себя вправе предъявлять к первому переводу. (Тем более, что достоинств, причем весьма конкретных, этому переводу не занимать: «скорби сердца», «притесненье сильных», «знатных своевольство», «презренных душ презрение к заслугам», «яркий в нас решимости румянец» и другие найденные Вронченко выражения принадлежат к лучшим находкам русских переводов этого монолога). — Гораздо больше в переводе Вронченко недостатков стилевого порядка, формального выражения. «Тысячи мучений/Наследье праха» — в лучшем случае пустозвучно. Гамлет опять-таки имеет в виду мучения, связанные с бренной плотью, с земным существованием, которое в них повинно; не забудем, что Гамлет ищет причину страданий и избавление от них — в себе, весь его вопрос — бороться ли против моря бедствий внешней жизни или покончить с ними, умертвив их воспринимающую, неотторжимую от них и потому виновную(!) в их невыносимости плоть, земную жизнь, их первоисточник. Гамлет-философ не знает, искать ли начало несчастий в жизни, кипящей вокруг него, или же в том, что воспринимает их,— то есть в своих чувствах, восприятии, плоти — flesh!— которая как бы наследует их от жизни. Это очень трудное место. Вот как переводят его через сто с лишним лет: «… Тысячу природных мук / Наследье плоти» (М. Лозинский), «… тысячи лишений, / Присущих телу» (Б. Пастернак): можно сказать, что им удается наиболее близко подойти к смыслу подлинника.
Нельзя признать удачным и выражение «О том помыслить должно». Не говоря уже о слове «помыслить» как таковом, все оно невыразительно растянуто по сравнению с резким “must give us pause” Шекспира. Поздние переводчики вообще толковали эти слова в ином смысле: «Вот в чем трудность» М. Лозинского, может быть, вольнее по букве, но точнее и ближе по духу оригинальной мысли. «Обиды гордых» — тоже не совсем удачно. Чьи обиды? И кому? Выражение Вронченко двусмысленно. Дословный перевод: оскорбления гордеца (ср. «насмешка гордеца» Лозинского).
И наконец, последняя, заключительная строка. Известно, какой эмоциональной силой отличаются все концовки Шекспира — как всего произведения в целом, так и отдельных актов, сцен и монологов. Последние слова Гамлета— это растущий по ритму и напряженности период из шести стихов. Вслушайтесь в силу и естественность слов “and lose the name of action”. Слова Вронченко «имен деяний не стяжают» архаичны. Тем не менее по выразительности они с успехом соперничают с последующими переводами.
Таковы во многом спорные достоинства и недостатки первого русского перевода. В целом же, за ним, безусловно, нельзя не признать той верности духу и слову Шекспира, которую отмечали, но не всегда могли оценить по достоинству еще современники Вронченко и за которую так по-разному боролись последующие переводчики «Гамлета».
Перевод “Гамлета” Н. Полевого (1837 г.)
В 1837 г. был опубликован новый перевод «Гамлета» — Н. Полевого, и трагедия была впервые поставлена на русской сцене. С этого времени начинается театральная история «Гамлета» в России — бурная история. Театр долгое время — не мог воспринять Шекспира без изменений «согласно требованиям сцены», хотя и Шекспир как будто бы писал для театра. Первые представления «Гамлета» с Мочаловым в главной роли прекрасно описаны Белинским, который дал и развернутую критику перевода Полевого. Не вдаваясь в подробности «обработки» Полевым Шекспира, мы рассмотрим монолог Гамлета, который по своей счастливой судьбе почти не пострадал при пересадке на русскую сцену.
Вот текст, который читал Мочалов:
Быть иль не быть — вот в чем вопрос!
(Заметим, что первый стих монолога в той форме, в какой он сохранился по сей день, был написан Полевым.)
Что доблестнее для души: сносить
Удары оскорбительной судьбы,
Или вооружиться против моря зол
И победив его, исчерпать разом?
Умереть — уснуть, не больше, и окончить сном
Страданья сердца, тысячи мучений —
Наследство тела: как не пожелать
Такого окончанья!..
Умереть, уснуть…
Уснуть — быть может грезить?
Вот и затрудненье…
Да, в этом смертном сне какие сновиденья
Нам будут, когда буря жизни пролетит?
Вот остановка, вот для чего хотим мы
Влачиться лучше в долгой жизни —
И кто бы перенес обиды, злобу света,
Тиранов гордость, сильных оскорбленья,
Любви отвергнутой тоску, тщету законов,
Судей бесстыдство и презренье это
Заслуги терпеливой за деянья чести,
Когда покоем подарить нас может
Один удар!
И кто понес бы иго
С проклятием, слезами тяжкой жизни?
Но страх: что будет там? там,
В той безвестной стороне, откуда
Нет пришлецов… Трепещет воля
И тяжко заставляет нас страдать,
Но не бежать к тому, что так безвестно…
Ужасное сознанье робкой думы
И яркий цвет могучего решенья
Бледнеет перед мраком размышленья,
И смелость быстрого порыва гибнет,
И мысль не переходит в дело…
Блестящий монолог! В самом деле, можно сказать, что этот перевод еще более театрален, чем текст Шекспира. Во всяком случае он гораздо более легок, гладок и изящен, чем верный, поэтичный, но тяжеловатый перевод Вронченко. Именно эти качества и обеспечили переводу Полевого такой невиданный дотоле успех на сцене. Но как уже в то время глубоко подмечал Белинский, внимательно следивший за ростом влияния Шекспира на русскую литературу, успех перевода Полевого объяснялся самими его недостатками. Дело в том, что Полевой не считал Шекспира безусловно великим поэтом, говоря, что и у него есть «пятки, не омоченные в Стиксе», коль скоро его пьесы заставляют зрителей зевать. Исходя из этой, в общем,верной посылки, он делал вывод, что Шекспира нужно приспособить к среднему уровню тогдашней публики вместо того, чтобы заниматься неблагодарной еще в то время пропагандой искусства Шекспира и обучением зрителя сначала по книгам воспринимать настоящего Шекспира, как того требовал Белинский. Публика того времени еще не доросла до Шекспира (нельзя сказать, что она вполне доросла до него, и сейчас), и Полевой объективно, знал он это или не знал, приноравливал старомодного поэта к «современным» запросам. В монологе Гамлета это как раз, как мы уже говорили, заметно меньше всего, но тем не менее и на нем сказался общий подход. Обратите внимание, за счет чего дается Полевому этот блеск, эта легкость, это изящество:
«Что доблестнее для души?» — Гамлет думает не столько о доблести, сколько о благородстве. «Оскорбительная судьба» — оригинально, но вряд ли вполне по-русски. Да и не так выразительно, как у Шекспира.
Затем идет довольно удачный перевод шести строк: «море зол», «страданья сердца», «наследство тела»(!). «Вот и затрудненье» — современнее, чем у Вронченко, но само по себе все-таки неудачно.
Вторая половина монолога сильнее испытала на себе вольность перевода Полевого. «Когда буря жизни пролетит» — красивый, но вольный перевод. «Вот остановка» — тоже. «Вот для чего хотим мы / Влачиться лучше в долгой жизни» — пересказ, а не перевод. У Шекспира: вот, что превращает долгую жизнь в мучение, заставляет так долго терпеть страдание. «Обиды, злобу света» — неточно. Уничтожен сохраненный у Вронченко образ («бич»). Вообще слова «злоба света» пристали скорее обществу времен Полевого, а не Гамлета. «Тиранов гордость» — и неудачно, и неверно. Гамлет говорит не о гордости тиранов (как будто гордость — самое злое качество тиранов!), а об оскорблениях надменных, то есть сильных мира сего. Правда, потом идет «сильных оскорбленья», но это перевод уже слов “th’ oppressor’s wrong”. Следующая строка очень удачна, хотя «тщета законов» — переводческая вольность. «Судей бесстыдство» — очень хорошо, но «презренье это заслуги терпеливой …» и т. д. —и неудобочитаемо, и неточно (ср. у Вронченко). Следующие строки очень хороши, хотя и не везде точны (например, «слезы» вместо «пота». Полевой «облагораживает» Гамлета). Обратите внимание, как Полевой заменяет для большей театральности синтаксическую связь Шекспира — эмоциональной после слов «С проклятием, слезами тяжкой жизни», где у Полевого — игровая пауза. То же и после слов «откуда / Нет пришлецов». Кстати, это неудачные слова, так как пришлецы-то есть (дух отца Гамлета), а нет возврата путешественникам, ушедшим в «неведомую страну». «Трепещет воля» — лучше, чем у Вронченко, но все равно недостаточно сильно.
Следующие две строки совсем уже далеки от текста Шекспира. Совершенно отсутствует, тонкая игра Гамлета на слове “ills”, и пропадает лежащий в ней смысл (ср. у Б. Пастернака: «мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться»). «Ужасное сознанье робкой думы» — очень красиво, но почти лишено того четкого смысла, который передает фраза Шекспира. Красивость («самый страшный враг красоты») вытесняет простоту и из последующих строк (ср. у Вронченко: «Так яркий в нас решимости румянец…»). Последние же три стиха вообще сокращены с ущербом для экспрессивности заключительных строк Шекспира.
Вообще весь перевод Полевого являет яркий пример затушевывания классика современностью. Вероятно, переводчик считал, что при таком переводе зрители перестанут зевать. Современный ему уровень восприятия подтвердил его правоту.
Но время не стояло на месте. Условности отмирали. На их месте возникали другие.
Историческая заслуга Полевого заключалась в том, что он дал своим переводом мощный толчок ко все более упорным попыткам примирить Шекспира и современность, Шекспира и театр. Задача в то время была неимоверно сложной. Чем ближе к оригиналу, тем меньше шансов иметь успех у широкой публики. И наоборот. Переводы Вронченко и Полевого представляли собой два пути, два метода.
М.М. Зинде, С.А. Фридрих. Качество перевода и стилистика текста
Перевод “Гамлета” А. Кронберга (1844)
А. Кронеберг, создавший в 1844 г. новый перевод «Гамлета», выбрал первый из них. Вот как выглядел монолог Гамлета в его переводе:
Быть иль не быть? Вот в чем вопрос!
Что благороднее? Сносить ли гром и стрелы
Враждующей судьбы, или восстать
На море бед и кончить их борьбою?
Окончить жизнь,— уснуть,—
Не более!— И знать, что этот сон
Окончит грусть и тысячи ударов,
Удел живых…
Такой конец достоин Желаний жарких!
— Умереть — уснуть…
Уснуть! —
Но если сон виденья посетят?..,
Что за мечты на смертный сон слетят,
Когда стряхнем мы суету земную?
Вот,’что дальнейший заграждает путь,
Вот отчего беда так долговечна!
Кто снес бы бич и посмеянье века,
Бессилье прав, тиранов прйтесненье,
Обиды гордого, забытую любовь,
Презренных душ презрение к заслугам,
Когда бы мог нас подарить покоем
Один удар?
Кто нес бы бремя жизни,
Кто гнулся бы под тяжестью трудов?
И только страх чего-то после смерти,—
Страна безвестная, откуда путник
Не возвращался к нам, — смущает волю
И мы скорей снесем земное горе,
Чем убежим к безвестности за гробом.
Так всех нас совесть обращает в трусов,
Так блекнет в нас румянец сильной воли,
Когда начнем мы размышлять; слабеет
Живой полет отважных предприятий
И робкий путь склоняет, прочь от цели …
Не нужен подробный анализ, чтобы увидеть, что это новая ступень в переводе монолога. Можно спорить лишь об отдельных его местах.
По-прежнему, камнем преткновения остается “outrageous fortune”. «Гром … враждующей судьбы» — не самое удачное выражение. Зато следующий стих прекрасен.
«Окончить жизнь» — оригинальная, но вряд ли верная амплификация. Кронеберг, видимо, хочет подчеркнуть, что это не естественная смерть.
«Окончит грусть». “Heart-ache” — не грусть, да и вряд ли состояние Гамлета определяется этим словом. Зато — «удел живых» — очень верно по смыслу, хоть и неточно.
Следующая строка, как мы видим, заимствована у Вронченко, причем, ввиду прежних замечаний,— это не самое удачное заимствование. Этот стих двусмыслен. Неудачно заимствовано и слово «мечты».
Перевод «когда стряхнем мы суету земную» можно считать удачным, несмотря на некоторую буквальность. «Вот отчего беда так долговечна» — хорошо, сжато, но, может быть, не вполне понятно. (У Шекспира яснее: вот, что делает жизнь страданий столь долгой).
Затем идет период, когда Гамлет говорит о самих злах окружающей его жизни. Здесь представляется, что для верного воссоздания образа принца необходимо сохранить именно ту картину, которую рисует он. «Бич и посмеянье века» — прекрасно, «бессилье прав» — выдумано, хоть и удачно, «тиранов притесненье» — точно и хорошо, «обиды гордого» — опять-таки, чьи обиды? «Забытая любовь» — сжато, но далеко не так выразительно, как у Шекспира. Стих: «Презренных душ презрение к заслугам» взят у Вронченко, точно так же, как последующий — у Полевого.
Следующие два стиха удачно пересказывают мысль Гамлета.
Строка «И только страх …» — самая точная и самая лучшая из трех переводов, равно как и две следующие; но вот опять знакомый нам камень преткновения: «смущает волю», «Тревожит», «трепещет»» «смущает». Может быть, «смущает» и самое удачное слово, но все равно, оно кажется недостаточно выразительным. В следующих двух строках не передано, во-первых, важное слово “makes”—заставляет, а во-вторых, все та же не поддающаяся пока переводу словесная игра … “ills we have …”. “Conscience” все еще переводится как «совесть».
Строки: «Так блекнет в нас … когда начнем мы размышлять» едва ли не лучшие из всех переводов, хотя шекспировский образ сохранен не полностью.
Заключительные же строки монолога кажутся нам опять-таки слабыми по сравнению с необыкновенно выразительными словами Шекспира.
Интересно отметить, что в свое время перевод Кронеберга именно в силу его достоинств имел так же мало успеха у широкой публики, как и перевод Вронченко — в свое.
Е. Эткинд. Из какого материала делают книги? (статья о переводе)
Перевод “Гамлета” М. Загуляева (1861 г.)
Следующий перевод «Гамлета» был создан в 1861 г. М. Загуляевым, который в попытке решить проблему примирения Шекспира с театром и современностью стремился создать перевод одновременно «верный и удобочитаемый». Эти две цели долго еще оставались несовместимыми. «Я решил, — писал переводчик, — переводить каждое слово, обращаясь с ним, как с святыней, завещанной нам великим гением». Мы не станем приводить весь монолог целиком, а рассмотрим только характерные его черты.
“…Должна ли Великая душа сносить удары рока..?”
Это, конечно, неверно. Гамлет говорит не о «великой» душе. Он говорит о любом человеке вообще.
“…покончить навсегда
С страданьями души и с тысячью болезней,
Природой привитых к немощной плоти нашей…”
Это, как мы видим, совершенно оригинальная интерпретация. Действительно, что такое “natural shocks”? Нужно ли толковать эти слова в философском смысле’, как это делали до Загуляева? Или же, действительно, Гамлет имеет в виду обыкновенные человеческие болезни, в которых виновата немощность нашей плоти?
“Tis a consomation… ’’ опять переводится по Кронебергу и Вронченко.
“Ay, there’s the rub”—«Да, вот—помеха!» (Ср. у Вронченко и Полевого). “Must give us pause” — «Тут есть о чем подумать!» Удачно переведен стих “There’s the respect…” «Эта мысль / И делает столь долгой жизнь несчастных».
После этого у Загуляева вопреки его «решению» идет хоть и очень хороший, но всего лишь пересказ монолога “а la Полевой”:
И кто бы в самом деле захотел
Сносить со стоном иго тяжкой жизни
Когда б не страх того, что будет там, за гробом.
(Перестановка. Эти строки должны были бы идти позднее, после картины «зол».)
Кто б захотел сносить судьбы все бичеванья
И все обиды света, поруганье
Тирана, оскорбленья гордеца,
Отверженной любви безмолвное (?) страданье,
Законов медленность и дерзость наглеца,
Который облечен судьбой всесильной властью,
Презрение невеж к познаньям и уму (??),
Когда довольно острого кинжала,
Чтоб успокоиться навек?..
В перевод последующих строк Загуляев привносит мало нового. Оригинальны (хотя малоудачны и не вполне верны) лишь заключительные стихи:
Да, малодушными нас делает сомненье (!?)…
Так бледный свой оттенок размышленье
Кладет на яркий цвет уж твердого решенья,
И мысли лишь одной достаточно, чтоб вдруг
Остановить важнейших дел теченье…
Перевод “Гамлета” А. Соколовского (1883 г.)
Другой переводчик «Гамлета» — А. Л. Соколовский (1883 г.) тоже пытался решить все ту же проблему, отдавая, однако, предпочтение духу, «впечатлению» перед буквой оригинала, стремясь «взрастить живой цветок из семян подлинника». Вот что у него получилось:
Жить иль не жить — вот в чем вопрос. Честнее ль (?)
Безропотно сносить удары стрел Враждебной нам (!) судьбы, иль кончить разом
С безбрежным морем радостей и бед,
Восстав на все? Окончить жизнь — уснуть.
(Вряд ли Гамлет наивно думал, что «восстав на все», он кончит беды «разом». «Окончить жизнь — уснуть» — взято у А. Кронеберга.)
Не более! — Когда ж при этом вспомнить,
Что с этим сном навеки отлетят
И сердца боль, и горькие обиды (??) —
Наследье нашей плоти, — то не в праве ль
Мы все желать подобного конца?..
(При чем здесь «право»? Гамлет говорит, что это желанный конец.)
…Вот остановка!
Какого рода сны тревожить будут
Нас в смертном сне, когда мы совлечем
С себя покрышку плоти?
(Вряд ли это удачно)
Вот, что может
Связать решимость в нас, заставя вечно
Терпеть и зло и бедственную жизнь!..
Кто стал бы в самом деле выносить
Безропотно обиды, притесненья,
Ряд (?) горьких мук обманутой (?) любви,
Стыд бедности (??), неправду власти (??), чванство
И гордость знатных родом — словом все,
Что суждено достоинству терпеть От низости — когда бы каждый (!) мог Найти покой при помощи удара Короткого ножа?
В этом отрывке пропущены “the whips and scorns of time”, “the law’s delay”, “the insolence of office”; на их месте — беды, придуманные Соколовским. Что касается «короткого ножа», то Соколовский был первым, кто правильно толковал слово “bodkin”—«шило». Как отмечал М. М. Морозов, оно не случайно у Гамлета. Именно шило, нож, а не кинжал, то есть орудие, доступное каждому.
…Когда бы страх пред тою непонятной,
Неведомой страной, откуда нет И не было возврата, не держал
В оковах нашей воли (!!!) и не делал
Того, что мы скорей сносить готовы
Позор (?) и зло, в которых родились,
Чем ринуться в погоню за безвестным?
(Новая попытка передать слово “ills”; опять-таки нельзя сказать, что она удачна.)
Всех трусами нас сделала боязнь!
(??Почему боязнь? Это бессмысленно.)
Решимости роскошный (?) цвет бледнеет Под гнетом (?) размышленья. Наши все
Прекраснейшие (?) замыслы, встречаясь
С ужасной этой мыслью, отступают,
Теряя имя дел…
Стремясь «взрастить живой цветок», Соколовский отступает перед оригиналом, заменяя перевод пересказом, отчего перевод только теряет. Тем не менее, он первый дает верный перевод слов “puzzles the will” хорошо передает по-русски “outrageous fortune” и “bare bodum”. Но на этом, кажется, и кончаются удачные находки перевода Соколовского; остальные достоинства — это достоинства пересказа.
Перевод “Гамлета” П. Гнедича
После А. Соколовского за перевод ,,Гамлета“ взялся такой большой мастер как П. П. Гнедич. Несмотря на столь плодотворный труд выдающихся русских переводчиков, так упорно стремившихся ко все более совершенному переводу трагедии, театр неизменно отдавал предпочтение пересказу Полевого, который неоднократно переиздавался. Недостатки его всеми осознавались, но замены ему не находили. Гнедич решил еще раз попытаться приспособить Шекспира к сцене, не нарушая, так сказать, этики перевода. Подобная попытка была обречена; еще не пришло то время, когда театр осознал, что это он должен приспосабливаться к Шекспиру, а не Шекспир — к нему. Гнедич очень долго работал над переводом, переделывая и улучшая его, но название оставалось неизменным: «Гамлет, принц Датский… С сокращениями согласно требованиям сцены».
Вот монолог принца в переводе П. П. Гнедича:
Быть или не быть? вот в чем вопрос!
Что благороднее: сносить удары Неистовой (!) судьбы, — иль против моря Невзгод вооружиться, в бой вступить
И все покончить разом…
(Как и А. Соколовский, Гнедич полагал, что Гамлет покончит с морем зла «одним ударом». Если бы это было так легко, Гамлет вряд ли бы колебался!)
…Умереть…
Уснуть — не больше, — и сознать — что сном Мы заглушим все эти муки сердца,
Которые в наследство бедной плоти достались (!!)
— О, да, это столь желанный
Конец!.. Да, умереть — уснуть… Уснуть?
Жить в мире грез, быть может? — вот преграда!(!!)
Какие грезы в этом мертвом сне
Пред духом бестелесным реять будут? —
(Пересказ!)
Вот в чем препятствие! — и вот причина,
Что скорби долговечны на земле…
А то кому снести бы поношенье,
Насмешки ближних (?), дерзкие обиды
Тиранов, наглость пошлых гордецов,
Мучения отвергнутой любви (!),
Медлительность законов (!), своевольство
Властей (!)… пинки, которые дают
Страдальцам заслуженным негодяи, —
Когда бы можно было вековечный
Покой и мир найти — одним ударом
Простого шила! (!) Кто бы на земле
Нес этот жизни груз, изнемогая
Под тяжким гнетом, — если б страх невольный
Чего-то после смерти, та страна
Безвестная, откуда никогда
Никто (?) не возвращался, — не смущал
Решенья нашего… О, мы скорее
Перенесем все скорби тех мучений,
Что возле нас, чем бросив все, навстречу
Пойдем другим, неведомым бедам…
И эта мысль нас в трусов обращает,
Могучая решимость остывает
При размышленьи и деянья наши
Становятся ничтожеством…
Это, безусловно, один из лучших переводов. Настолько верно и поэтично передано состояние принца в целом, так много в нем удачно переведенных мест. Лишь некоторые недостатки составляют исключение.
Гнедич обходит такие подводные камни, как “mortal coil” или “calamity of so long life”, обесцвечивая эти образы. Он считает, что трудный поэтический образ вредит восприятию текста со сцены.
«Насмешки ближних» — пожалуй, единственное неверное выражение в блестяще переданной в общем картине зол, о которых говорит Гамлет. Общее впечатление портит выражение «страдальцам заслуженным».
Опять упущен образ «путника», хотя Гнедичу ничего не стоило передать его.
«… не смущал / Решений нашего…» — трижды верно по смыслу, но все же Гамлет говорит о воле; это слово тоже хотелось бы видеть сохраненным. «Скорби мучений» — тоже не лучшее выражение; зато оригинально и, в общем, верно (если не считать неудачного слова «пойдем»—“fly” (!) передается, наконец-то, смысл слов “those ills we have…”.
Вслед за А. Соколовским Гнедич переводит “conscience”— «эта мысль». Это и верно, и неверно. То, что он отказывается, наконец, от неточного слова «совесть», — это шаг вперед. Но Гамлет в данном случае говорит не об этой мысли, а о мысли, о мышлении, о раздумье вообще, философски — это ключ к его трагедии. И уж совсем обескураживающ конец: пропущен образ здорового румянца решимости,
блекнущего в облаке размышлений. Таковы были во времена Гнедича «требования сцены». И совсем уже не звучат выпотрошенные Гнедичем простые и гениально выразительные последние слова монолога.
П. Гнедич дал, наконец, русскому театру перевод, которого он так долго ждал, чтобы заменить переделку Полевого. Все увидели, что примирение между Шекспиром и современным театром возможно.
Перевод “Гамлета” Д. Аверкиева (1895)
Д. В. Аверкиев попытался в 1895 г. сблизить их еще теснее. Он сознавал обе задачи, стоявшие перед ним. Тем не менее, буквальность взяла верх над живостью и естественностью. Непримиримое, кажется, противоречие!
Жизнь или смерть — таков вопрос.
Что благородней для души: сносить ли
И пращу, и стрелу (??) судьбы свирепой,
Иль, встав с оружьем против моря зол,
Борьбой покончить с ними? (!) — Умереть, —
Уснуть, — не больше … И подумать только (I)
Что сном окончатся и скорби сердца,
И тысячи страданий прирожденных,
Наследье плоти!..
Вот исход, достойный
Благоговейного желанья!… Умереть, —
Уснуть … Уснуть!… Быть может, видеть сны.
Вот в чем препятствие. Что мы, избавясь
От этих преходящих бед, (?!) увидим
В том мертвом сне, — не может не заставить
Остановиться нас.
По этой-то причине
Мы терпим бедствие столь долгой жизни, —
(Этот отрывок, как нам кажется, показывает, чего можно достичь, усваивая то положительное, что было сделано предшественниками, и подавляя стремление к оригинальности).
Кто снес бы бичеванье и насмешки Людской толпы, презренье к бедняку (?)
Неправду притеснителя, томленье (?)
Отверженной любви, бессилье (?) права,
Нахальство власть имущих и пинки,
Что терпеливая заслуга сносит От недостойного (!!), когда он (?) может Покончить с жизнью счеты (?)
Простым стилетом (?) … Кто бы стал таскать
Все эти ноши и потеть, и охать
Под тягостною жизнью (!), если б страх
Чего-то после смерти, той страны Неведомой, из-за границ которой
Не возвращаются, — не путал (?) воли,
Уча (?), что лучше нам сносить земные беды,
Чем броситься к другим, нам неизвестным (!).
Так в трусов обращает нас сознанье (!),
Так и решимости природный диет
От бледного оттенка мысли тускнет
И оттого-то также предприятья
Великие по силе и значенью,
Сбиваясь в сторону в своем теченьи,
Не переходят в дело…
Так был сделан новый вклад в совершенствование перевода этого удивительного по своей глубине монолога. Образ Гамлета приобретал все новые, скрытые дотоле черты.
Перевод “Гамлета” К. Романова (1899 г.)
Перевод трагедии, сделанный в 1899 г. К. Романовым, известным поэтом и переводчиком, — символичен. Это был последний перевод XIX века. Это был перевод новый и вместе с тем традиционный, в том смысле, что он гармонично впитал в себя почти все лучшее, что было сделано за 70 лет после М. Вронченко. Это был первый перевод «стих в стих», сопровожденный английским текстом «en regard» и двухтомным комментарием к трагедии, вобравшим в себя все, что европейская наука знала о «Гамлете». Современники очень высоко оценили «точность», «тонкость» и замечательную добросовестность перевода К. Р.
Вот как выглядел монолог Гамлета в этом последнем переводе XIX века, переводе, созданном в результате упорного труда талантливых переводчиков пяти поколений:
Быть иль не быть? Вот в чем вопрос! Что выше:
Сносить в душе с терпением удары
Пращей и стрел (!) судьбы жестокой (!) или
Вооружившись против моря бедствий,
Борьбой покончить с ними? (!) Умереть — уснуть, —
Не более; и знать, что этим сном покончишь
С сердечной мукою и с тысячью терзаний,
Которым плоть обречена (!) — о, вот исход
Многожеланный! Умереть, — уснуть; —
Уснуть! и видеть сны, быть может? Вот оно! (?)
Какие сны в дремоте смертной снятся,
Лишь тленную стряхнем мы оболочку (!), — вот что
Удерживает нас (!). И этот довод (?)
Причина долговечного страданья.
Кто бы стал терпеть насмешки и обиды,
Гнет притеснителей, кичливость гордецов,
Любви отвергнутой терзание, законов
Медлительность, властей бесстыдство и презренье
Ничтожества к заслуге терпеливой, (!)
Когда бы сам все счеты мог покончить
Каким-нибудь ножом. Кто б нес такое бремя,
Стеная, весь в поту под тяготою жизни (!)
Когда бы страх чего-то после смерти,
В неведомой стране, откуда ни единый
Не возвращался путник (!) воли не смущал,
Внушая нам скорей испытанные беды
Сносить, чем к неизвестности бежать? И вот
Как совесть делает из всех нас трусов;
Вот как решимости природный цвет
Под краской (?) мысли чахнет и бледнеет,
И начинанья важности великой,
От этих дум теченье изменив,
Теряют и названье дел…
Разве это не настоящий Гамлет?
Разве этот перевод не мог бы с успехом звучать с сегодняшней сцены? Да, настоящий. Да, мог бы.
Разве нужны были новые переводы? Новый век сказал: да, нужны.
Таковы основные вехи истории монолога Гамлета в передаче крупнейших переводчиков шекспировской трагедии в XIX веке. Своим кропотливым трудом и талантом они создали русского Гамлета, проникнув в глубины шекспировских мыслей и образов и позволив переводчикам следующего века пойти еще дальше по пути к совершенному переводу и создать своего, нового, современного Гамлета, увиденного и понятого иным поколением. Поэты и переводчики нового века не остановились на том, что уже было сделано. Время требовало нового восприятия глубочайшей из всех существовавших трагедий. И XX век дал новые переводы «Гамлета». Н. Россов (1907 г.), А. Радлова (1937), М. Лозинский (1938) и Б. Пастернак (1940) создали, наследуя накопленный опыт и богатство, своих, оригинальных героев. Не всегда это было заслугой. Иногда они стремились перевести по-своему то, что и без того уже было переведено хорошо, вместо того, чтобы, сохраняя достигнутое, улучшать еще несовершенное. Именно поэтому идеального, совершенного перевода так и не было создано. Но возникают два вопроса: возможен ли он? и нужен ли он?
Источник
Тетради переводчика, выпуск 6. «Монолог Гамлета «Быть иль не быть». Русские переводы 19 века» (А. Дранов)
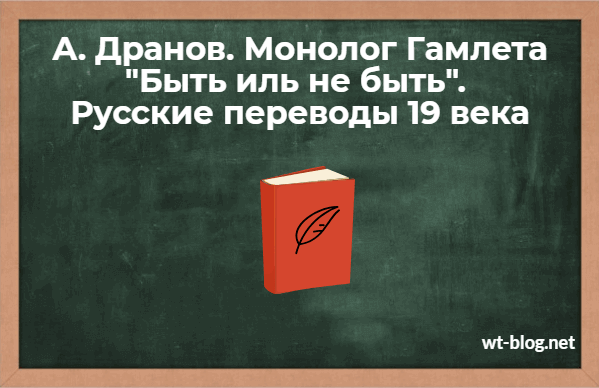


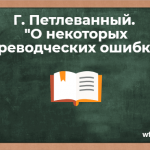
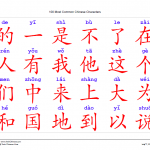

Жизнь или смерть – вот так стоит вопрос.
Иль душу чистую на казнь отдать,
Снося жестокие судьбы удары,
Иль против тьмы невзгод на крае встать
Судьбы? И сгинуть, умереть, уснуть
Всего-то лишь… сказав: покойся с миром
Моя боль в сердце с тыщей бед земных,
Ушедших вместе с плотью навсегда
В желанную могилу. В вечном сне
Забыться, видеть сны, и может… вот!
В чём дело – снятся ль в смерти сны, когда
Земная карусель отпустит нас
В конце концов от мук и бед, жалея…
Да кто же стерпит весь позор битья
Кнутом в проклятом времени своём?
Всесильем лжи, униженною честью,
Презрением к осмеянной любви,
Жестокостью и наглостью господ,
Ведущих счёт долгам всем в жизни сирых,
Когда любой из них одним клинка
Ударом мог бы сам свести с ней счёты?
Но нет – несёт рабом её груз тяжкий
Из страха перед смертью – страшной тайной,
Не зная, что за краем тьмы могильной,
Никто оттуда в жизнь не возвращался…
Не это ль волю сковывает нашу,
И заставляет мучиться, чтоб жить?
Сознанье этого всех держит в трусах,
И цвет наш чахнет бледный на свету,
Под тенью прячась в злобе дней от мысли,
Что всё кипенье жизни перед нами
По сути – пустота, что жизни нить
Слаба и коротка… Молчи! Кто здесь?
Офелия, душа! Прости меня,
И помолись за Гамлета, дитя…